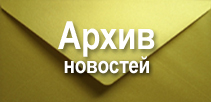Воспоминания м. Михаэлы Морачевской
Генеральной настоятельницы Конгрегации
Сестёр Божьей Матери Милосердия
c 1928 по 1946 год
Однажды, весенним утром 1924 года (в то время я была настоятельницей [Дома] на улице Житней [в Варшаве]), привратница сообщила, что пришла молодая девушка с просьбой принять её в Конгрегацию. Я спустилась в комнату для посетителей и приоткрыла дверь, но эта просительница – сидевшая так, что меня не заметила, – поначалу не произвела на меня положительного впечатления, поскольку её внешний вид был несколько неухоженным. Я подумала: «Ой, это не для нас!» – и тихонько прикрыла дверь, с намерением передать отрицательный ответ через какую-нибудь другую сестру.
Однако в ту же минуту я подумала, что любовь к ближнему велит сначала задать девушке хотя бы несколько простых вопросов, и только после этого попрощаться с ней. Поэтому я вернулась и начала разговор. Тогда я заметила, что кандидатка вблизи выглядела гораздо привлекательнее, у неё была милая улыбка, симпатичные черты лица, она обладала простотой, искренностью и благоразумием. Так что я передумала, и вскоре решила принять её. Главной проблемой была бедность Хеленки Ковальской, и речь идёт не о «приданом», от которого Апостольский Престол легко даёт освобождение; но у неё не было даже личных вещей, а у нас для этого не было никаких средств. Я подсказала ей поискать работу и отложить себе несколько сотен злотых на скромное приданое. Девушка с большим вниманием отнеслась к этому предложению, и мы договорились, что отложенные деньги она будет приносить и оставлять на сохранение у привратницы. Придя к такому решению, я с ней попрощалась, и вскоре обо всём забыла.
Поэтому удивление моё было огромно, когда несколько месяцев спустя, пребывая в Вильнюсе, я получила письмо, что какая-то барышня принесла на хранение 60 злотых, ссылаясь на полученное распоряжение. Только после некоторого раздумья я поняла, что произошло. С тех пор депозит увеличивался с таким постоянством, что уже через год собралось несколько сотен злотых, которых тогда хватало на скромное приданое монахини. Хеленка на протяжении этого года работала у госпожи (…), которая была ею очень довольна и посещала её даже тогда, когда Хелена уже прошла испытания (постулантуру). Она рассказывала сёстрам, что была совершенно спокойна за своих детей, оставляя их с таким порядочным и надежным человеком. Эта женщина всё никак не могла смириться с утратой, с решением Хеленки вступить в Конгрегацию, и однажды даже пыталась разубедить её – знаем это от самой Сестры Фаустины.
Вскоре после вступления [в Конгрегацию Сестёр Божьей Матери Милосердия] Хелену Ковальскую отправили в Сколимов, где в 1925 году мы сняли виллу для летнего отдыха сестёр и воспитанниц. Осенью осталась только одна из выздоравливающих сестер – с компаньонкой, Хеленка готовила для них и отменно исполняла свои обязанности.
В Варшаве, после вступления в Конгрегацию, Сестра Фаустина находилась под опекой м.Янины, одной из старших и выдающихся матушек, которая в то время, в 1925 году, занималась послушницами. Мать Янина полюбила молодую послушницу, оценила её качества и познала дух её молитвы. Уже несколько месяцев спустя она сказала мне: «Хеленка – это душа, очень близко соединённая с Господом Иисусом». Я весьма обрадовалась, но не интересовалась деталями. Только после того как Сестра Фаустина уже была в новициате, в «Юзефове», она сама рассказала мне о видении в своей келье – она видела Иисуса, Который помог ей побороть соблазн против призвания. Мне кажется, что это событие она также упоминает в своих записках.
С тех пор она не раз рассказывала мне о своих мистических переживаниях, о словах, которые внутренне слышала, а однажды, будучи молодой послушницей в Варшаве, дала мне записанные карандашом «осияния» своей души. Должна признаться, я не придавала этому большого значения и лишь поверхностно просмотрела её записи. У меня сложилось впечатление, что некоторые из них она включила в дневник, который впоследствии писала по повелению краковского духовника.
Первые временные обеты Фаустина принесла 30 апреля 1928 года. Вскоре после этого она выехала в Варшаву, готовить для девочек в кухне. Дети, которые вместе с ней там работали, очень уважали её. Это проявилось особенно тогда, когда после её смерти они узнавали о расширении культа Божьего Милосердия. Они вспоминали её тепло и считали, что им повезло иметь возможность работать вместе с ней. Во всяком случае, так же было и в других Домах. Работая, Сестра Фаустина вела с ними наставительные беседы и призывала совершать малые жертвы для Бога.
Случалось так, что Сестру Фаустину часто приходилось переводить с места на место, поэтому ей случилось работать почти в каждом Доме Конгрегации. И вот, после непродолжительного пребывания в Варшаве [на ул.Житней] и на Грохове, она снова была переведена в Плоцк, а оттуда ненадолго в поселение Бяла – сельскохозяйственный лагерь Дома в Плоцке. Но её основным занятием в Плоцке, вплоть до третьего испытательного срока (в конце 1932 года), была работа по продаже хлеба в магазине местной пекарни. Она со всей старательностью взялась за новые обязанности, так что сегодня – пожалуй, больше чем прежде – я ещё выше оцениваю рвение, с которым такая внутренне развитая душа занималась столь прозаическим делом.
Примерно за год до начала третьего испытательного срока, однако, случились изменения, из-за которых вышло так, что я непроизвольно, при всей моей благожелательности к Сестре Фаустине, причинила ей страдания. Именно тогда от матери-настоятельницы в Плоцке я узнала, что Сестра Фаустина просила нарисовать образ Божьего Милосердия согласно явленному ей видению. Пока её богатые внутренние мистические переживания не выходили за пределы монашеских стен, были тайной между Богом, её душой и наставниками, – я радовалась, видя в этом всём великий дар Божий для Конгрегации. Однако положение изменилось, когда видения Сестры начали искать прорыва наружу. Я тогда очень опасалась ввести в жизнь Церкви даже самое маленькое новшество, ложное поклонение и т.д., а будучи Генеральной настоятельницей, я ощущала на себе всю полноту ответственности за нашу Конгрегацию.
Я боялась того, что у Сестры Фаустины буйное воображение либо какая-то истерия, поскольку не всегда исполнялось то, что она предрекала. (…) Поэтому я – насколько охотно и одобрительно слушала её, когда она искренне и с простотой излагала глубокие и прекрасные свои мысли, сверхъестественные просветления, – настолько же сдержанно относилась к ее просьбам о каких-либо шагах «вовне», консультируясь во многих случаях с кем-нибудь из богословов.
Настоятельница из Плоцка сказала мне, что сестра должна написать образ, но сама Фаустина обратилась ко мне с этим вопросом только по прибытии в Варшаву на третий испытательный срок. На что я ей ответила: «Хорошо, я дам Вам краски и холст, рисуйте». Она отошла расстроенная и – насколько знаю – обращалась к нескольким сестрам с просьбой: не могли бы они написать образок Господа Иисуса. Фаустина делала это скрытно, но безуспешно, потому что те сёстры тоже не умели рисовать. Однако было видно, насколько она захвачена этой мыслью.
Период подготовки к принесению вечных обетов был для сестры Фаустины – насколько я сегодня понимаю – довольно трудным. Cоздание образа занимало все её мысли, и в это же время проблемы со здоровьем заставили её идти к врачу, который тогда еще ничего не обнаружил. Сегодня я думаю, что диагноз был неправильным. К тому же м.Янина, которая её так хорошо понимала в начале монашеского пути, – услышав о каких-то откровениях, несколько раз резко сделала ей замечание не впадать в излишества, поскольку это может привести на ложные пути, и т.д. А Сестра Фаустина была очень впечатлительной и воспринимала эти замечания очень болезненно.
Вот поэтому Сестра Фаустина, сосредоточенная на своих мыслях, помогала сестре-швее, к которой была определена в качестве помощницы, с меньшим, чем обыкновенно, старанием – что весьма огорчало последнюю.
Однако внешне всё выглядело нормально и обыкновенно, так что в назначенное время, после духовных упражнений, 30 апреля [1 мая] 1933 года Сестра Фаустина принесла вечные обеты в «Юзефове». Наставницей третьего монашеского испытания была в то время мать Малгожата – Анна Гимбут; испытания проходили в Варшаве.
Зная хорошо эту душу [Сестру Фаустину], я хорошо понимала, что у неё должен быть опытный духовник, поэтому после принесения обетов хотела оставить её в «Юзефове», под духовным руководством отца Андраша, которому Сестра Фаустина очень доверяла. Но странным образом это не складывалось. Отец Андраш, по Божьему провидению, должен был помогать ей в последние минуты её жизни.
Все молодые послушницы уже приняли назначенные обязанности, а Сестра Фаустина всё ждала. Между тем, из Дома в Вильнюсе пришло письмо с горячей просьбой прислать кого-нибудь для работы в саду. Единственной подходящей кандидатурой на эту должность тогда была сестра Фаустина. И я, после нескольких дней размышлений, позвала её и сообщила об этом плане, добавив: Вы знаете, как я желала, чтобы Вы осталась здесь; но это невозможно. Она мне просто ответила, что поедет с удовольствием, уповая на то, что там тоже встретит наставника души. И в самом деле, она повстречала о.проф. Сопочко, который помог ей расширить культ Божьего Милосердия.
Вскоре после прибытия в Вильнюс Фаустина усердно принялась за работу в саду. У неё не было профессиональной подготовки, но, советуясь с садоводами, она при своём природном уме получила отличные результаты. Как-то раз у нас была делегация из вышестоящих органов управления, желающая посетить наше учреждение. Одна из женщин сказала мне: Ой, по-видимому, у вас тут есть садовод-специалист!
Отец профессор Сопочко, в то время духовник сестёр в Вильнюсе, заинтересовался Сестрой Фаустиной и попросил послать её к врачу, дабы проверить её нервную систему и психическое состояние. Получив же положительный отзыв врача, согласовал с настоятельницей Дома – м.Иреной – написание образа. Я была безмерно счастлива, видя разрешение этого вопроса в руках священника. Как известно, образ написал художник Казимировский согласно указаниям Сестры Фаустины. Насколько могу судить, он сделал также небольшие эскизы, так как один из них Сестра привезла мне позже в Варшаву, возвращаясь из Вильнюса в 1936 году, и просила его повесить в часовне Дома или в зале Конгрегации, добавив, что этого желает Господь Иисус. Однако я объяснила ей, что столь необычно написанный образ удивил бы сестёр, и его происхождение было бы сложно объяснить. Так что эскиз я положила в архив, и он сгорел во время восстания [Варшавское восстание 1 августа – 2 октября 1944 года. – Прим.ред.], вместе с самим Домом.
Точно так же я разрешила вопрос венчика к Божьему Милосердию. Когда Сестра Фаустина призналась, что Господь Иисус научил её новому венчику, я внимательно выслушала и ничего не ответила, или, возможно, сказала какое-то нейтральное слово, – я не помню. Спустя некоторое время она подошла с предложением записать для меня этот венчик. До сих пор я храню эту страничку. Тем не менее, я не согласилась на его совместное чтение, объясняя, что после вечерних молитв мы уже читаем венчик к Божьему Милосердию, и эта молитва даже наделена индульгенциями. Фаустина ответила на это: Но эта другая, – и больше об этом разговор не заводила.
Однажды в Вильнюсе [Сестра Фаустина] обратилась ко мне с тем, что Господь Иисус хочет создать конгрегацию, полностью посвящённую поклонению Божьему Милосердию. Конгрегация должна быть затворнического типа. Хотя Фаустина не высказывала этого на словах, но можно было почувствовать, что именно ей поручено возглавить эту общину. Я приняла это как отдалённый проект, выразила сомнение, что эта мысль полностью исходит от Господа и что она правильно поняла это вдохновение (в качестве примера такого ошибочного понимания я привела пример св.Франциска Ассизского, который, услышав слова: Обнови Мою Церковь, – принялся отстраивать церковь св.Дамиана), а следовательно, нужно молиться, размышлять и ждать.
На время вопрос затих – но ненадолго, поскольку Сестра Фаустина была поглощена этой идеей и при первой же возможности вернулась к ней. Столкнувшись с этими неоднократными требованиями, я заняла более решительную позицию, ведь здесь вопрос касался того, что ей придётся оставить Конгрегацию. Я сказала ей, что как Генеральная настоятельница несу ответственность за призвания сестёр, и поэтому не могу дать согласия без глубокого осмысления, не убедившись, что это откровение от Бога, а не искушение сатаны. Может, это злой дух хочет её вернуть к мирской жизни, и тогда не будет никакой Сестры Фаустины, а будет снова Хелена Ковальская. Тогда я ответила ей: на данный момент у меня нет никакого особого вдохновения, как есть у Вас, поэтому, пожалуйста, просите Бога обо мне, чтобы дал какой-нибудь свет, какой-то внешний или внутренний знак.
На эту тему мы разговаривали с ней несколько раз. Однажды она с печалью сказала: Неужели всё, что я слышу в моей душе, – всё это иллюзия? Я ответила ей с искренней убеждённостью: Нет, сестра, я чувствую, что у Вас есть много света от Бога, но мы всегда можем добавить что-то своё. Возможно, что такая конгрегация должна возникнуть; но будете ли Вы основательницей – в этом я очень сомневаюсь. Поэтому подождём.
Она очень страдала в то время. Было видно, как тягостна для неё мысль об уходе из нашей Конгрегации, которую она искренне любила (и даже хотела, чтобы её младшая сестра вступила к нам); с другой же стороны, ей казалось, что она должна следовать воле Божьей, так что эти несколько лет были, пожалуй, самым трудным периодом её жизни. Она бывала тогда грустной, подавленной, но всегда на своем месте и при своих обязанностях.
Желая, чтобы Фаустина обрела духовное равновесие, и при этом стремясь прекратить создавшуюся ситуацию, я поговорила с сёстрами-консультантками, и весной 1936 года перевела её из Вильнюса в Краков. По дороге она задержалась на несколько недель в Валендове, а затем в Дердах, где была востребована для различных нужд. Меня поразило то, что в этих двух Домах сёстры были ею очарованы, желали, чтобы она осталась с ними. Она благотворно влияла на них своим поведением.
В «Юзефове» [Сестра Фаустина] была направлена на работу в сад, но её внутреннее состояние не изменилось. Она была мучима сомнениями: следует ли оставаться в Конгрегации или создавать новую. Постоянно переписывалась с о.Сопочко, который её также и проведывал, и беседовал с нею о душевных переживаниях, – но только время от времени, потому что здесь, в «Юзефове», она советовалась с отцом Андрашем.
Спустя некоторое время у неё появились первые признаки болезни лёгких, поэтому в преддверии осени её отправили в больницу в Пронднике. По рекомендации врача Сестра Фаустина провела там всю зиму, и здоровье её настолько улучшилось, что ей позволили вернуться в Дом. Она снова стала помогать в саду.
Фаустина сказала мне, что надеется встретиться с кем-то, кого о.проф. Сопочко считал подходящей кандидатурой для новой конгрегации и кто должен был приехать в Лагевники. Разрешение она получила, но эта встреча не состоялась.
В 1937 году, собираясь с инспекцией в краковский Дом, на заседании Совета я спросила сестёр-консультанток, не лучше ли будет для внутреннего спокойствия Сестры Фаустины дать согласие на её выход из Конгрегации. Советницы выразили своё согласие. Нам жаль было отпускать такую хорошую и усердную сестру, но мы боялись пойти против Божьей воли.
Сестру [Фаустину] я застала спокойной, но как только она пришла ко мне – сразу же повторила свою просьбу. В соответствии с решением нашего Совета, я, не задумываясь, дала ей согласие. Я увидела, что это стало для неё неожиданностью, и она спросила, буду ли я заниматься исполнением необходимых формальностей. После моего ответа, что я не знаю, как обосновать её желание выхода из Конгрегации в связи с откровениями, Сестра Фаустина попросила разрешения пойти на встречу с отцом Андрашем – как оказалось, временно отсутствующим. Разумеется, я разрешила, и мы расстались.
В тот же день после обеда я отправилась на несколько дней в наш Дом в Рабку, а после возвращения с любопытством присматривалась к дальнейшему поведению сестры Фаустины. С удивлением я отметила, что она исполняет свои ежедневные обязанности, как будто ничего не произошло. Поэтому я подождала немного, а потом позвала её и спросила, как обстоят дела. Сестра ответила искренне и непринужденно, что после полученного от меня согласия на свободу действий она ощутила в душе, словно пребывает в какой-то черной бездне, полностью одинокая и оставленная, не в силах сделать даже шагу, – и мысль о выходе из Конгрегации оставила её. Мы на эту тему сердечно поговорили ещё раз и больше к ней не возвращались. Сегодня мне кажется, что эту внезапную темноту души можно рассматривать как знак от Бога, которого мы ждали.
Осенью 1937 года здоровье Сестры Фаустины начало снова резко ухудшаться, поэтому её перевели с работы в саду в привратницкую. Сестра была добра к бедным, очень вежлива и доброжелательна. Поскольку болезнь прогрессировала, нужно было изолировать её от сестёр, вместе с другой сестрой, Фабиолой, также лёгочной больной. По Божьему попущению, тогдашняя больничная сестра ещё со времён Вильнюса не очень-то доверяла духовным переживаниям с.Фаустины, о которых уже немного знала, а прислуживающая сестра очень боялась заразиться туберкулезом. И поэтому уход за больной, как я позже узнала, не всегда был должным. Однако Сестра Фаустина не жаловалась, и лишь когда я весной приехала из Варшавы, она упомянула об этом, добавив, что говорит так, чтобы в будущем, с другими больными, подобного не случалось. Следующая больничная сестра окружила больную очень сердечной заботой.
Во время Пасхи 1938 года [Сестра Фаустина] опять была доставлена в Прондник, поскольку прежнее пребывание там очень хорошо на неё подействовало. В санатории она, как и в первый раз, оставила о себе наилучшее впечатление как среди пациентов, так и среди медсестер и врачей. Именно там я видела её в последний раз. В июле я была в «Юзефове», а услышав о том, что болезнь быстро прогрессирует, поехала её проведать. Последняя встреча оставила в моей памяти приятное впечатление и воспоминание. Сестра Фаустина очень обрадовалась. Она возбужденно рассказывала мне различные эпизоды из своей больничной жизни, поэтому час, имевшийся в моём распоряжении между двумя автобусами, пролетел в одно мгновение. Мы не затрагивали её внутренних переживаний намеренно, и она лишь – как раз перед расставанием – весело сказала: Ой, Матушка, какие прекрасные вещи мне говорит Иисус Христос! И, указывая туда, где лежали её записки, добавила: Матушка, Вы это всё прочитаете. Я застала её очень истощенной, однако впечатления о ней как о тяжелобольной не создавалось – она ходила на открытую террасу и в часовню. В августе мне сообщили в Варшаву, что ситуация ухудшается. Я отправила ей секретку [«закрытая» открытка, в отличие от открытки как таковой. – Прим. ред.], как доказательство моего сочувствия и сострадания. В ней упомянула об о.Сопочко, который будет на Синоде в Ченстохове, и вероятно, пользуясь случаем, проведает её. Очевидно, мои несколько слов принесли ей большую радость, поскольку эта секретка после её смерти оказалась в шкатулке между записками и письмами от духовных отцов. В ответ она прислала мне прекрасное письмо, которое я цитирую. Оно не датировано, но было написано в конце августа 1938 года.
†
J. M. J.
Дражайшая Матушка
Спасибо большое Вам за эту записку, это для меня приятная весточка, а также за сообщение об о.профессоре Сопочко, этот священник действительно святой.
Дражайшая Матушка, мне кажется, что это наш последний разговор на земле, я чувствую себя очень слабенько и пишу дрожащей рукой, страдаю столько, сколько могу выдержать. Иисус не даёт ничего свыше сил; если страдание велико, то и благодать Божья огромна. Я полностью положилась на Бога и Его святую волю. Всё большая тоска по Богу охватывает меня, смерть меня не страшит, моя душа преисполнена огромным миром. Ещё все духовные упражнения я делаю, на Святую Мессу тоже встаю, однако не на целой [Мессе] могу быть, так как мне делается плохо, но насколько могу – пользуюсь благодатями, которые нам оставил в Церкви Иисус.
Дражайшая Матушка, от всего своего сердца, переполненного огромной признательностью, хочу поблагодарить за всё то хорошее, что дала мне Конгрегация, с самого первого момента вступления и до сих пор. Особенно благодарю Вас, Матушка, за искреннее сочувствие и руководство в трудные моменты, которые, казалось, невозможно вытерпеть. Пусть Вас Господь за это щедро вознаградит!
И вот теперь в духе монашеского смирения приношу покорнейшие извинения Дражайшей Матушке за неточное исполнение устава, за плохой пример, который подавала сёстрам, за недостаток усердия в монашеской жизни, за все огорчения и страдания, которые могла причинить Матушке, пусть и неосознанно. Ваша доброта, Возлюбленная Матушка, была для меня силой в тяжёлые времена.
Мысленно припадаю к ногам Дражайшей Матушки и смиренно прошу прощения за все мои провинности, и прошу благословения в час смерти. Я верю в силу молитвы Вашей, Матушка, и Любимых Сестёр, я чувствую, что мне помогает какая-то сила.
Прошу извинения за моё некрасивое письмо, но моя рука затекла и дрожит. До свидания, Дражайшая Матушка, до встречи на небесах у Божьего Престола. А теперь пусть ширится в нас и через нас Божье Милосердие.
С глубочайшим почтением, целую ручки Дражайшей Матушке, и прошу о молитве за меня.
Самая убогая и несовершенная
с. Фаустина
Шесть недель спустя сестра Фаустина уже не жила! За три недели до смерти она вернулась из Прондника домой, умирать среди сестёр, и 5 октября Милосердный Господь призвал её к себе.
м. Михаэла Морачевская
„Юзефов”, 1948
__________________________
Публикация в: «Послание Милосердия», nr 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Перевод: Натальи Корбецкой